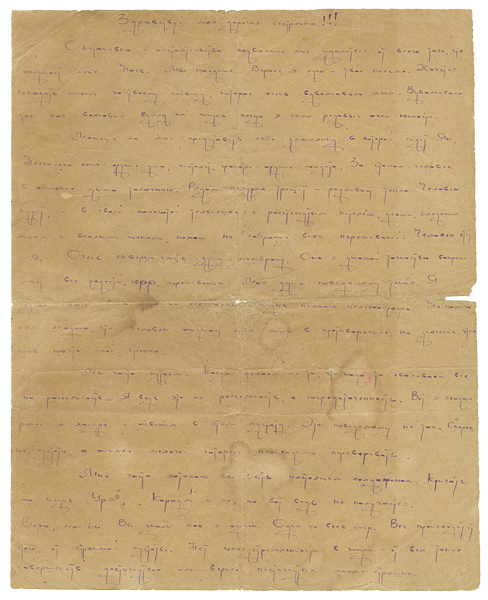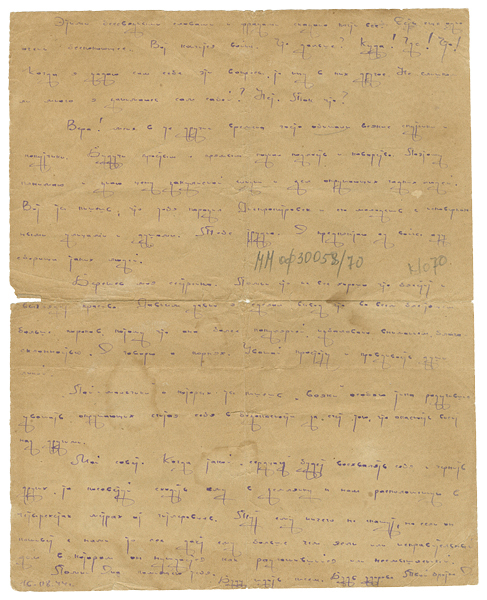Вот я и опять встретился с Яном, сижу в его землянке. Он лежит, курит,
рассказывает мне о твоих письмах, восхищается твоим умом, душой. Ты ему
радость приносишь. Радость и сомнение.
Здравствуй Вера! Не обижайся, что я не ответил первым на твое письмо-
отклик. Я их получил тогда тысячи, откуда я мог знать, что среди них найдется
такой автор, как ты. А ты особенная. Редкая. Уникум. Вот я и отдал твое письмо
Яну. Он прочел и попросил. Я не отказал. Не все ли равно мне было? А теперь не
все равно. В письмах к Яну ты открыла, вернее, раскрыла кое-какие свои
достоинства. Я умею ценить достоинства. Мне уже 36, я повидал, поболел,
погоревал и порадовался. Говоря в стиле Менделя Маранца (спасибо тебе за
книжки), я скажу: что такое поживший человек? Это человек в состоянии
похмелья. Ему приятно вспомнить весну, вечеринку юности, приятно вспомнить
одну-две победы на этой вечеринке и в то же время жалко, что она больше не
повторится.
Меня зовут «батей», «стариком». Не только Ян, который моложе меня на
восемь лет. Может быть, я еще не совсем старик, но уже изрядно побитый жизнью.
Война ускорила эту душевную и физическую травму. Дочурка моя, Танюша, узнает
и будет любить папку. Захочет ли узнать жена, которой 23 года? Она на 19 лет
старше доченьки моей золотой и на 13 лет моложе меня. Страшно старику! Но он
не горюет. Он повторяет слова, девиз Кола Брюньона: «Ты ли ешь, тебя ли едят —
на все имей веселый взгляд…» А знаешь, Вера, Мендель по характеру немного
похож на Брюньона. Только последний мне больше по душе. Он честнее, проще, а
главное — трудолюбивее.
Не осуждай батьку за сумбурное, непоследовательное письмо. Он и в жизни
такой и стараться быть лучшим не хочет. Вот сейчас мне мешает писать Ян. Я его
обругал. Он виноват, что я потерял одну забавную мысль. Откровенность. А
впрочем, он, пожалуй, молодец. На кой дьявол тебе моя откровенность? Зачем
знать тебе заранее то, что ты узнаешь в свое время, когда станешь постарше? В
этом случае я не согласен с любимым старцем Некрасовым. Помнишь? «Зачем в
обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии, правду ему
рассказать…» Будь в обаянии юности, восторгов и неизвестности. Будь здорова,
моя вторая фронтовая дочь. Старик тебе кланяется, низко, по-русски.
рассказывает мне о твоих письмах, восхищается твоим умом, душой. Ты ему
радость приносишь. Радость и сомнение.
Здравствуй Вера! Не обижайся, что я не ответил первым на твое письмо-
отклик. Я их получил тогда тысячи, откуда я мог знать, что среди них найдется
такой автор, как ты. А ты особенная. Редкая. Уникум. Вот я и отдал твое письмо
Яну. Он прочел и попросил. Я не отказал. Не все ли равно мне было? А теперь не
все равно. В письмах к Яну ты открыла, вернее, раскрыла кое-какие свои
достоинства. Я умею ценить достоинства. Мне уже 36, я повидал, поболел,
погоревал и порадовался. Говоря в стиле Менделя Маранца (спасибо тебе за
книжки), я скажу: что такое поживший человек? Это человек в состоянии
похмелья. Ему приятно вспомнить весну, вечеринку юности, приятно вспомнить
одну-две победы на этой вечеринке и в то же время жалко, что она больше не
повторится.
Меня зовут «батей», «стариком». Не только Ян, который моложе меня на
восемь лет. Может быть, я еще не совсем старик, но уже изрядно побитый жизнью.
Война ускорила эту душевную и физическую травму. Дочурка моя, Танюша, узнает
и будет любить папку. Захочет ли узнать жена, которой 23 года? Она на 19 лет
старше доченьки моей золотой и на 13 лет моложе меня. Страшно старику! Но он
не горюет. Он повторяет слова, девиз Кола Брюньона: «Ты ли ешь, тебя ли едят —
на все имей веселый взгляд…» А знаешь, Вера, Мендель по характеру немного
похож на Брюньона. Только последний мне больше по душе. Он честнее, проще, а
главное — трудолюбивее.
Не осуждай батьку за сумбурное, непоследовательное письмо. Он и в жизни
такой и стараться быть лучшим не хочет. Вот сейчас мне мешает писать Ян. Я его
обругал. Он виноват, что я потерял одну забавную мысль. Откровенность. А
впрочем, он, пожалуй, молодец. На кой дьявол тебе моя откровенность? Зачем
знать тебе заранее то, что ты узнаешь в свое время, когда станешь постарше? В
этом случае я не согласен с любимым старцем Некрасовым. Помнишь? «Зачем в
обаянии умного Ваню держать? Вы мне позвольте при лунном сиянии, правду ему
рассказать…» Будь в обаянии юности, восторгов и неизвестности. Будь здорова,
моя вторая фронтовая дочь. Старик тебе кланяется, низко, по-русски.
→ глава 7
16 июля 1944 года
Письмо Вере (Веронике) от неустановленного лица
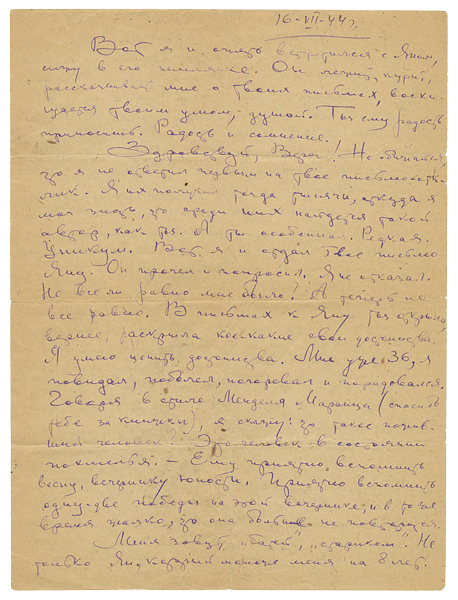
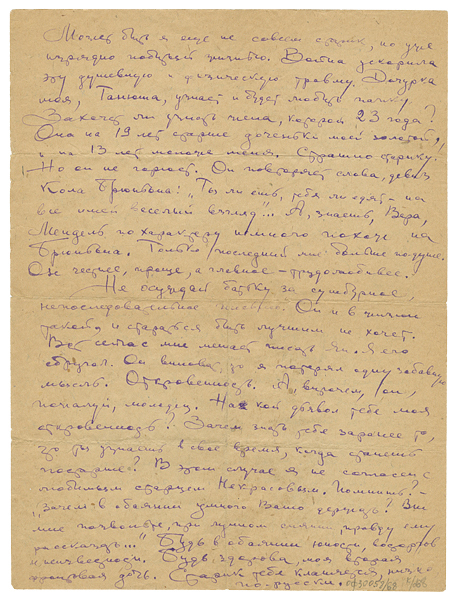
Здравствуй, дорогая моя сестренка!
Ночь. Темнота кромешная. В землянке тепло и от тусклого света коптилки,
освещающего нехитрые вещи фронтового комфорта, веет доморощенным уютом.
Приблизительно в 100–150 метрах, зарывшись в землю, мерзлую и неприветливую,
находится <утрачено> 7 <неразборчиво> Эта дивизия была в Киеве и прошла
<утрачено> многие наши села и города.
Сейчас на нашем участке фронта тихо, так тихо, как обычно бывает перед
большими боями.
Несколько минут мучаюсь с коптилкой. Она дает <неразборчиво>, по-
видимому, трудно будет написать все, что хотелось бы написать, а я считаю
необходимым изложить и доверить этим листкам бумаги и капризам почты многое.
Отдавая долг справедливости, меня смутило и даже немного расстроило твое
письмо, датированное, судя по штемпелю, последними числами февраля.
Вот оно это письмо. Я его перечитал несколько раз и мне стало удивительно
хорошо от некоторых наивно откровенных строк, хотя от некоторых было и
тоскливо, тяжело. Постараюсь быть пунктуальным и отвечу последовательно на
все.
Прежде чем писать о дружбе нашей и о гарантиях, что она не сможет
перевоплотиться в любовь, я осмелюсь сказать тебе, мой друг, что ты еще пока
много не знаешь о Яне. То, что тебе уже известно, будет, пожалуй, достаточным
для друга, а остальное касается лично <утрачено>.
Твое письмо:
Между нами снова 20-дневная пропасть. Виновата в этом ты, вернее, твоя
необоснованная боязнь, что я буду истолковывать твои послания так, как их
истолковывает ваша студентка-скептик. Зря. Написал я именно тебе, потому что
твое письмо произвело на меня хорошее, чистое, дружеское впечатление. Я одинок.
Нет так горячо любимой матери, утеряна сестра, погибли лучшие друзья. Мне
необходимо общаться с кем-либо, чтобы не огрубеть и не превратиться в эпиофа.
Твое выражение, что тот, кто получит письмо, сможет быть братом или отцом
твоим, мне так понравилось, что я и решил написать. Если бы твое второе или
третье письмо было наполнено словами любви и лепетом о счастии брачном
послевоенном, то моих писем не последовало бы. (Это не пустой звук, а факт из
опыта окружающих и лично сам я был ошарашен двумя девушками, подобным
образом пытающихся пленить).
Я прекрасно понимаю, что смысл жизни некоторых девиц и заключается
именно в том, чтобы завоевать как можно больше мужских сердец с тем, чтобы
иметь право выбора. Эта горькая истина мною постигнута недавно, так как на
амурном фронте я никогда не отличался, да и, собственно говоря, не бывал в
тисках амура. Я не педант и не сухарь. Возраст, здоровье и все мужское
протестовало еще в дни штурма твердынь наук. «Почему ты сковал самые
сокровенные чувства», — говорила иногда совесть. «Так надо», — отвечал здравый
смысл. Сначала добейся положения, благодаря которому ты смог бы обеспечить
благополучие любви, и тогда влюбляйся. Так шесть лет с книгами под мышкой
бегал я около «художественных произведений природы», боясь задержать свой
взгляд больше положенного времени, а то ведь люди бывают слабее своих чувств, а
чувства оказываются сильнее нас.
Сейчас я не стал бы сопротивляться и если на своем пути встретил бы умную
и хорошую душу, то, пожалуй, и сказал бы ей слово «люблю», сказал бы горячо и
по-мужски.
Война и совершенно другие заботы далеко оттолкнули меня от этого, а
фантазировать и произносить это священное слово девушке в письме я считаю
глупым и даже вредным для воображения. Ну что можно узнать о человеке через
письма. Можно узнать кое-что о его умственных способностях и других мелких
особенностях. Приложение — фотография, так модная во взаимоотношениях
между двумя пылкими сердцами, — мне также кажется сереньким и тусклым.
Мне кажется, что в этой области моя дорогая сестренка может чувствовать
себя в полной безопасности, какой красавицей она не слыла бы. Необходимо будет
сказать, что в отношении людей я весьма придирчив. Судить о том или другом
человеке по «вывеске» — я не сужу. Прежде всего рассматриваю красоту
человеческой души и если нахожу в этом какие-либо изъяны, то даже стараюсь не
обращать внимания на другие достопримечательности.
Мы, мой друг, вполне взрослые люди и имеем небольшой ум, достаточный
для того, чтобы понять некоторые превратности жизни, так что разговора о
«подходящей партии» быть не может. Если я и темпераментен в силу того, что
неуемные русская кровь с французской бурлят в моих жилах, то мать природа
наградила меня и стойкостью такой, что я могу сказать с некоторой гордостью, что
все время не давал страстям и нет тех грязных пятен на солнце моей жизни,
которыми, к великому сожалению, наделены некоторые окружающие тебя и меня.
Ночь. Темнота кромешная. В землянке тепло и от тусклого света коптилки,
освещающего нехитрые вещи фронтового комфорта, веет доморощенным уютом.
Приблизительно в 100–150 метрах, зарывшись в землю, мерзлую и неприветливую,
находится <утрачено> 7 <неразборчиво> Эта дивизия была в Киеве и прошла
<утрачено> многие наши села и города.
Сейчас на нашем участке фронта тихо, так тихо, как обычно бывает перед
большими боями.
Несколько минут мучаюсь с коптилкой. Она дает <неразборчиво>, по-
видимому, трудно будет написать все, что хотелось бы написать, а я считаю
необходимым изложить и доверить этим листкам бумаги и капризам почты многое.
Отдавая долг справедливости, меня смутило и даже немного расстроило твое
письмо, датированное, судя по штемпелю, последними числами февраля.
Вот оно это письмо. Я его перечитал несколько раз и мне стало удивительно
хорошо от некоторых наивно откровенных строк, хотя от некоторых было и
тоскливо, тяжело. Постараюсь быть пунктуальным и отвечу последовательно на
все.
Прежде чем писать о дружбе нашей и о гарантиях, что она не сможет
перевоплотиться в любовь, я осмелюсь сказать тебе, мой друг, что ты еще пока
много не знаешь о Яне. То, что тебе уже известно, будет, пожалуй, достаточным
для друга, а остальное касается лично <утрачено>.
Твое письмо:
Между нами снова 20-дневная пропасть. Виновата в этом ты, вернее, твоя
необоснованная боязнь, что я буду истолковывать твои послания так, как их
истолковывает ваша студентка-скептик. Зря. Написал я именно тебе, потому что
твое письмо произвело на меня хорошее, чистое, дружеское впечатление. Я одинок.
Нет так горячо любимой матери, утеряна сестра, погибли лучшие друзья. Мне
необходимо общаться с кем-либо, чтобы не огрубеть и не превратиться в эпиофа.
Твое выражение, что тот, кто получит письмо, сможет быть братом или отцом
твоим, мне так понравилось, что я и решил написать. Если бы твое второе или
третье письмо было наполнено словами любви и лепетом о счастии брачном
послевоенном, то моих писем не последовало бы. (Это не пустой звук, а факт из
опыта окружающих и лично сам я был ошарашен двумя девушками, подобным
образом пытающихся пленить).
Я прекрасно понимаю, что смысл жизни некоторых девиц и заключается
именно в том, чтобы завоевать как можно больше мужских сердец с тем, чтобы
иметь право выбора. Эта горькая истина мною постигнута недавно, так как на
амурном фронте я никогда не отличался, да и, собственно говоря, не бывал в
тисках амура. Я не педант и не сухарь. Возраст, здоровье и все мужское
протестовало еще в дни штурма твердынь наук. «Почему ты сковал самые
сокровенные чувства», — говорила иногда совесть. «Так надо», — отвечал здравый
смысл. Сначала добейся положения, благодаря которому ты смог бы обеспечить
благополучие любви, и тогда влюбляйся. Так шесть лет с книгами под мышкой
бегал я около «художественных произведений природы», боясь задержать свой
взгляд больше положенного времени, а то ведь люди бывают слабее своих чувств, а
чувства оказываются сильнее нас.
Сейчас я не стал бы сопротивляться и если на своем пути встретил бы умную
и хорошую душу, то, пожалуй, и сказал бы ей слово «люблю», сказал бы горячо и
по-мужски.
Война и совершенно другие заботы далеко оттолкнули меня от этого, а
фантазировать и произносить это священное слово девушке в письме я считаю
глупым и даже вредным для воображения. Ну что можно узнать о человеке через
письма. Можно узнать кое-что о его умственных способностях и других мелких
особенностях. Приложение — фотография, так модная во взаимоотношениях
между двумя пылкими сердцами, — мне также кажется сереньким и тусклым.
Мне кажется, что в этой области моя дорогая сестренка может чувствовать
себя в полной безопасности, какой красавицей она не слыла бы. Необходимо будет
сказать, что в отношении людей я весьма придирчив. Судить о том или другом
человеке по «вывеске» — я не сужу. Прежде всего рассматриваю красоту
человеческой души и если нахожу в этом какие-либо изъяны, то даже стараюсь не
обращать внимания на другие достопримечательности.
Мы, мой друг, вполне взрослые люди и имеем небольшой ум, достаточный
для того, чтобы понять некоторые превратности жизни, так что разговора о
«подходящей партии» быть не может. Если я и темпераментен в силу того, что
неуемные русская кровь с французской бурлят в моих жилах, то мать природа
наградила меня и стойкостью такой, что я могу сказать с некоторой гордостью, что
все время не давал страстям и нет тех грязных пятен на солнце моей жизни,
которыми, к великому сожалению, наделены некоторые окружающие тебя и меня.
Неизвестное письмо
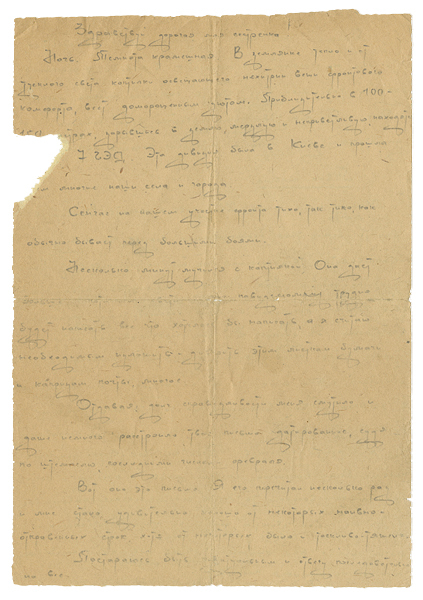
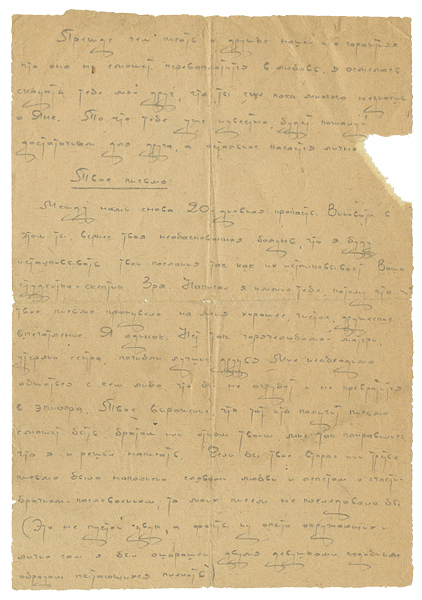
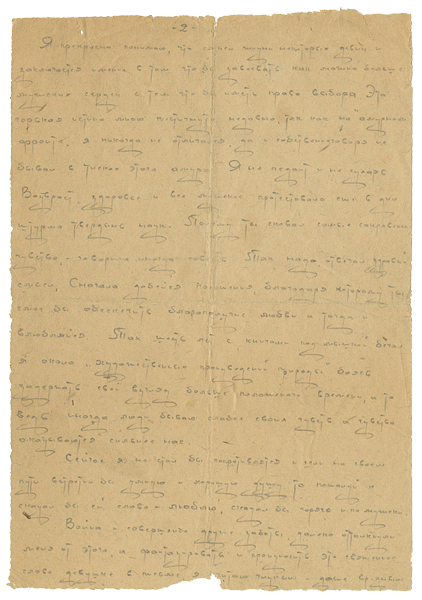
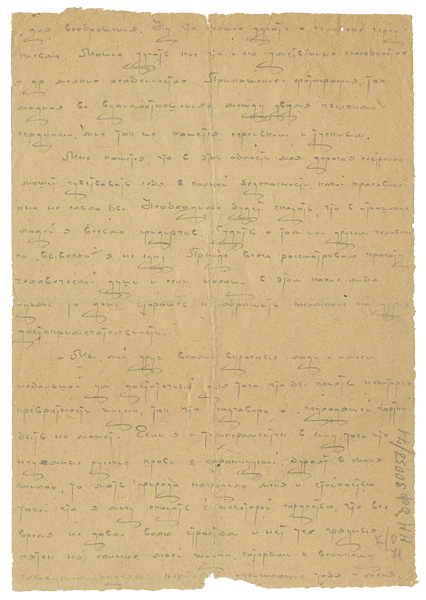
Милая сестренка!
Однажды мне показалось, что жизнь моей сестренки стала серенькой-
серенькой, а по сравнению с жизнью в Ал[ма]-А[те] совершенно трагической и с
большими кризисами.
Этот вывод я сделал, когда получил маленькое, бедное мыслями ко всем
остальным письмо.
Что произошло? Почему Вероника стала так редко и мало писать?
Ведь столько нового, трудного, интересного и жуткого в вашей жизни
сейчас, а Вера пишет: «Жива и здорова».
Сестренка моя дорогая, пиши мне больше и чаще. Я так жду твоих прежних
писем, что трудно все выразить мертвыми словами.
За Б[ориса] Горбатова благодарен. Мне кажется, что ее переоценивают, и я
присоединяюсь к твоему мнению. Кстати, Бориса я знаю лично. Он со временем
даст больше и лучше.
Если будешь посылать что, то избегай таких вещей. Это я все знаю и вижу
сам. Вот в стиле Менделя и ему подобных. Старина трагическая, легкая,
откровенная и запутанная и это лучше.
Но если все же трудно, то, ради всех святых, не мучь себя, моя дорогая
сестрица. Лучше всякой повести, романа и рассказа будет твое письмо, подобное
тем, которые я вместе с тобой боготворил.
Жду ответа обстоятельного и хорошего.
Всего наилучшего, моя дорогая, милая сестра.
Твой братик Я.
P.S. Только что передали о взятии нашими войсками Нарвы, Демблина
<неразборчиво>
P.S. Удивительно. Это третье письмо за последнее время к Веронике, но не
конец.
Однажды мне показалось, что жизнь моей сестренки стала серенькой-
серенькой, а по сравнению с жизнью в Ал[ма]-А[те] совершенно трагической и с
большими кризисами.
Этот вывод я сделал, когда получил маленькое, бедное мыслями ко всем
остальным письмо.
Что произошло? Почему Вероника стала так редко и мало писать?
Ведь столько нового, трудного, интересного и жуткого в вашей жизни
сейчас, а Вера пишет: «Жива и здорова».
Сестренка моя дорогая, пиши мне больше и чаще. Я так жду твоих прежних
писем, что трудно все выразить мертвыми словами.
За Б[ориса] Горбатова благодарен. Мне кажется, что ее переоценивают, и я
присоединяюсь к твоему мнению. Кстати, Бориса я знаю лично. Он со временем
даст больше и лучше.
Если будешь посылать что, то избегай таких вещей. Это я все знаю и вижу
сам. Вот в стиле Менделя и ему подобных. Старина трагическая, легкая,
откровенная и запутанная и это лучше.
Но если все же трудно, то, ради всех святых, не мучь себя, моя дорогая
сестрица. Лучше всякой повести, романа и рассказа будет твое письмо, подобное
тем, которые я вместе с тобой боготворил.
Жду ответа обстоятельного и хорошего.
Всего наилучшего, моя дорогая, милая сестра.
Твой братик Я.
P.S. Только что передали о взятии нашими войсками Нарвы, Демблина
<неразборчиво>
P.S. Удивительно. Это третье письмо за последнее время к Веронике, но не
конец.
27 июля 1944 года
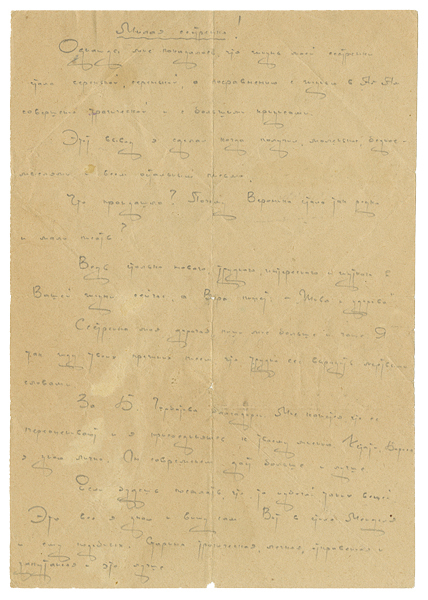
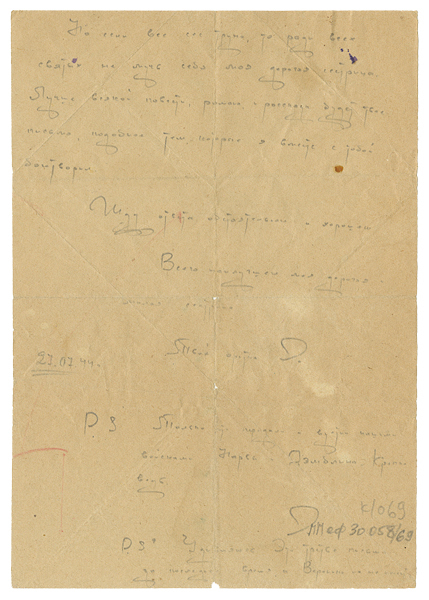
Здравствуй, моя дорогая сестренка!!!
Обстановка и обстоятельства позволили мне удалиться от всего того, что
окружает меня. Ночь. Мы наедине. Вернее, я один и твое письмо. Хочется сказать
многое по твоему письму, которое очень взволновало меня. Взволновало так, как
волновал взгляд на жизнь, когда я снял розовые очки юности.
Можешь на миг представить себе землянку, в которой сидит Ян. Несколько
книг — оружие ума, пистолет, гранаты — оружие солдата. За столом человек в
облаках дыма табачного. Рядом печурка трещит и разливает тепло. Человек курит и
в своей полосатой тельняшке с расстегнутым кителем, усами, бледным лицом и
впалыми щеками похож на собрание всех переживаний. Человек этот я. Очень
скверно иметь душу-мембрану. Она с ужасной точностью воспринимает все
радости, горе, переживания. Моя душа, по-видимому, такая. Я <неразборчиво>
всего этого, но все делает жизнь немного целесообразной. Не помню кем сказано,
что человек ощущает себя лишь в противоречиях, но значение этих слов понято
мной крепко.
Мы часто путаем. Когда делаем не то, что надо, то сваливаем все на
рассеянность. А ведь это не рассеянность, а сосредоточенность. Вот я сказал ранее
о хандре и обвинил в этом пустоту. Это, по-видимому, не так. Скорее не пустота, а
обилие мелочей, которые необходимо переваривать.
Мне часто хотелось бы быть настоящим солдафоном, кричать на жизнь:
«Уря», «Караул!» и пр., но вот ведь не получается.
Вера, если бы Вы знали, как я одинок. Один на весь мир. Все происходит от
этого, от страшной пустоты. Нет целеустремленности в жизни и от таких
совершенств, достигнутых или, вернее, постигнутых мною, страшно.
Этими бессвязными словами и фразами сказано почти все. Есть еще одно
очень беспокоящее. Вот кончится война. Что дальше? Куда! Где! Что! Когда я
задаю сам себе эти вопросы, то вижу в них другое. Не слишком ли много я
занимаюсь сам собой? Нет. Так что?
Вера! Меня в те другие времена часто обижали всякие спутники и
попутчики. Будучи простым и прямым, познал подлость и коварство. Поэтому
понимаю и знаю цену закулисной жизни и дел окружающих гадких людей. Вот ты
пишешь, что тебя поразил Днепропетровск и его молодежь с исковерканными
улицами и душами. Тебе трудно. Я предпочитаю ад войны аду сборища таких
людей.
Берегись, моя сестренка. Помни, что не все хорошо, что блестит и выглядит
красиво. Давным-давно я сделал вывод, что во всем блестящем больше пороков,
потому что оно более популярно, избаловано вниманием, благосклонностью. Я
говорю о парнях. Уважай простоту и правдивость души.
Пай-мальчики, о которых ты пишешь «вояки», — особого типа
разучившиеся уважать окружающих, счита[ющие] себя в безопасности за счет того,
что опасность висит над другими.
Мой совет. Когда такой «сердцеед» будет восхвалять себя и чернить других,
то посоветуй сходить ему в землянку к нам, расположенную в четырехстах метрах
от гитлеровцев. Тут ему ничего не скажут, но если он поживет с нами, то
<неразборчиво> даст уму больше, чем ясли или исправительный дом, в котором он
нуждается как <неразборчиво> и несмышленый.
Помни Яна, помнящего тебя. Буду ждать писем. Будь здорова. Твой братка
Я.
Обстановка и обстоятельства позволили мне удалиться от всего того, что
окружает меня. Ночь. Мы наедине. Вернее, я один и твое письмо. Хочется сказать
многое по твоему письму, которое очень взволновало меня. Взволновало так, как
волновал взгляд на жизнь, когда я снял розовые очки юности.
Можешь на миг представить себе землянку, в которой сидит Ян. Несколько
книг — оружие ума, пистолет, гранаты — оружие солдата. За столом человек в
облаках дыма табачного. Рядом печурка трещит и разливает тепло. Человек курит и
в своей полосатой тельняшке с расстегнутым кителем, усами, бледным лицом и
впалыми щеками похож на собрание всех переживаний. Человек этот я. Очень
скверно иметь душу-мембрану. Она с ужасной точностью воспринимает все
радости, горе, переживания. Моя душа, по-видимому, такая. Я <неразборчиво>
всего этого, но все делает жизнь немного целесообразной. Не помню кем сказано,
что человек ощущает себя лишь в противоречиях, но значение этих слов понято
мной крепко.
Мы часто путаем. Когда делаем не то, что надо, то сваливаем все на
рассеянность. А ведь это не рассеянность, а сосредоточенность. Вот я сказал ранее
о хандре и обвинил в этом пустоту. Это, по-видимому, не так. Скорее не пустота, а
обилие мелочей, которые необходимо переваривать.
Мне часто хотелось бы быть настоящим солдафоном, кричать на жизнь:
«Уря», «Караул!» и пр., но вот ведь не получается.
Вера, если бы Вы знали, как я одинок. Один на весь мир. Все происходит от
этого, от страшной пустоты. Нет целеустремленности в жизни и от таких
совершенств, достигнутых или, вернее, постигнутых мною, страшно.
Этими бессвязными словами и фразами сказано почти все. Есть еще одно
очень беспокоящее. Вот кончится война. Что дальше? Куда! Где! Что! Когда я
задаю сам себе эти вопросы, то вижу в них другое. Не слишком ли много я
занимаюсь сам собой? Нет. Так что?
Вера! Меня в те другие времена часто обижали всякие спутники и
попутчики. Будучи простым и прямым, познал подлость и коварство. Поэтому
понимаю и знаю цену закулисной жизни и дел окружающих гадких людей. Вот ты
пишешь, что тебя поразил Днепропетровск и его молодежь с исковерканными
улицами и душами. Тебе трудно. Я предпочитаю ад войны аду сборища таких
людей.
Берегись, моя сестренка. Помни, что не все хорошо, что блестит и выглядит
красиво. Давным-давно я сделал вывод, что во всем блестящем больше пороков,
потому что оно более популярно, избаловано вниманием, благосклонностью. Я
говорю о парнях. Уважай простоту и правдивость души.
Пай-мальчики, о которых ты пишешь «вояки», — особого типа
разучившиеся уважать окружающих, счита[ющие] себя в безопасности за счет того,
что опасность висит над другими.
Мой совет. Когда такой «сердцеед» будет восхвалять себя и чернить других,
то посоветуй сходить ему в землянку к нам, расположенную в четырехстах метрах
от гитлеровцев. Тут ему ничего не скажут, но если он поживет с нами, то
<неразборчиво> даст уму больше, чем ясли или исправительный дом, в котором он
нуждается как <неразборчиво> и несмышленый.
Помни Яна, помнящего тебя. Буду ждать писем. Будь здорова. Твой братка
Я.
16 августа 1944 года